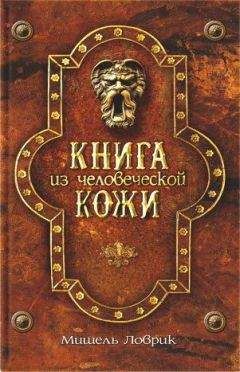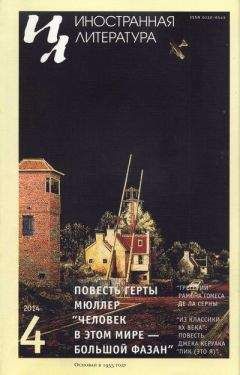— Господь страдал на кресте без еды и питья ради меня, поэтому я тоже отказываюсь от них. Из благоговения к губке, которая была поднесена к Его губам, с настоящего момента я отказываюсь вообще пить что-либо, кроме уксуса.
— Уксусная рожа! Тебе идет! — Рафаэла была начисто лишена христианских добродетелей, неизменно оставаясь грубой и приземленной особой. — Сестра Лорета, а ты никогда не спрашивала себя, нужна ли Господу в брачной постели взрослая женщина, которая заморила себя голодом до такой степени, что выглядит как тщедушный ребенок?
И она откусила здоровенный кусок бифштекса из мяса альпаки,[61] шумно причмокивая при этом. Она произнесла эти жестокие издевательские слова в то время, пока я сохраняла на своем мокром лице радостное выражение, как подобает тому, кто узрел путь к славе в объятиях Господа.
Сестра Андреола приподняла скатерть и уставилась на меня с выражением неискреннего сочувствия.
— Вы уверены, сестра Лорета? — обратилась она ко мне с вопросом. — Мне бы очень не хотелось видеть, как вы страдаете. Прошу вас, выпейте немного воды. Осмелюсь предположить, она поможет вам мыслить яснее.
Правда, как всегда, состояла в том, что она никогда бы не придумала для себя такого покаяния. Сестра Андреола была начисто лишена духа мученичества. В сравнении с моим пылом ее вера была вялой и безжизненной.
После этого я отказалась от питья: чая, tisana,[62] шоколада и супа. Я набирала в рот глоток воды лишь для того, чтобы увлажнить язык во время молитвы, и не более того. Вино во время причастия я лишь пригубливала. В остальных случаях я пила один только уксус.
Именно такой пост менее чем через месяц привел нескольких святых на брачное ложе с Господом.
Джанни дель Бокколе
Когда Мингуилло отправился шататься по свету в первый раз, вы даже не представляете, какая радость воцарилась в доме! Моя хозяйка, госпожа Доната Фазан, она даже начала напевать по утрам. Пьеро Зен, тот проводил с нами все время, как нам казалось, почти не возвращаясь в свой одноименный palazzo. Смех Марчеллы раздавался с утра до вечера. Говоря по правде, они здорово походили на семью, настоящую семью, сидя втроем за обеденным столом. Я смотрел на них, и у меня прямо душа радовалась, честное слово!
Простые вещи. Улыбка здесь, смех там. Семейная любовь, которая стоит дешевле грязи и ценится дороже золота. И каждый день конт Пьеро увозил Марчеллу в гондоле на несколько часов. Я не знал, куда они ездили. Для меня имело значение только то, что, когда Марчелла возвращалась, на щечках у нее цвели розы, а аппетит был отменным.
Маленький личный конфуз Марчеллы быстро перестал досаждать ей. С отъездом братца мы вынули ее из кожаной сбруи, чтобы нижняя часть ее тела и больная нога могли передохнуть. Костыль ей требовался лишь тогда, когда она уставала. Какое удовольствие было глядеть, как она ходит по двору, собирая цветы! Она рисовала прекрасные портреты наших любимых цветов, а в серединку каждого цветка помещала лица слуг. Правда, нам все время приходилось напоминать ей о рассаднике ядовитого аконита и наперстянки, которые покачивали голубыми головками в терракотовых горшках; их так обожал Мингуилло.
В те благоуханные деньки некое подобие материнской любви проснулось наконец в груди ее мамочки, уже похоронившей образ маленькой ангельской девочки, какой некогда была Марчелла. Мингуилло не было с нами, конт Пьеро подбадривал и поддерживал ее, и мне подумалось, что, быть может, еще не все потеряно для моей хозяйки, госпожи Донаты Фазан. Однажды я случайно подглядел, как она поцеловала девочку в макушку, и у меня стало так хорошо на душе, словно я полюбовался на ясный рассвет. Признаюсь, я был тронут.
— Да, — прошептал я, — научись любить ее. Научись, пока еще не поздно.
В Палаццо Эспаньол до сих пор стоит один шкаф, и там хранятся рисунки матери, которые Марчелла сделала за те несколько недель. Теперь она рисовала только лицо, а не бросающуюся в глаза прическу, и мать выходила у нее, как живая.
А Мингуилло все не было и не было. Он задерживался. Это было как Божье благословение. Целыми днями я оставался сам собой, а не носил глупую маску, которую надевал специально для него.
Скажу вам по секрету, каждую ночь я молился о том, чтобы он попал в кораблекрушение, подхватил чудесную проказу или нарвался на жестокого грабителя в своем Чили-Перу. Или на шлюху с бешеным нравом и ножом под подушкой. «В их племени должна сыскаться хоть одна достаточно храбрая девица, — думал я, — которая решит, что с нее хватит, блудница Божья».
Валь-па-рай-иссо, вот как это произносится, Вальпараисо.
Мингуилло Фазан
Ах, мой славный Вальпараисо, где женщины были бедны настолько, что делали все, что им прикажут, без слез и нытья. Ах, какие сладкие воспоминания остались у меня от шума дождя, барабанящего по жестяным крышам и стенам, пока я обрабатывал плеткой восхитительную плоть очередной мадам! Мой обожаемый Вальпараисо, который в любой момент мог содрогнуться от толчков землетрясения, все восемнадцать тысяч душ которого обитали на крутых quebradas[63] с постоянным риском для жизни. Опасность temblores[64] придавала особую пикантность и остроту каждому мигу их существования.
Я поселился в доме мистера Френча, как он предпочитал именовать себя, за жестяным фасадом которого, выкрашенным в младенчески-розовый цвет, постояльцам предлагались расшатанные кровати с пружинными сетками, отгороженные друг от друга дырявыми пологами. Именно мистер Френч взял на себя труд познакомить меня с некоторыми дамами Вальпараисо, если их можно так назвать, которых легко было уговорить надеть шпоры или закурить сигару. Которые садились на лошадь верхом, по-мужски, и от которых пахло потом после того, как они позволяли мне вдоволь насладиться ими.
Вальпараисо я покидал с грустью. Мой собственный лекарь прошел обучение в самой известной botica [65] города, а книга из человеческой кожи покоилась у меня в кармане, и теперь путь мой лежал дальше на север, в Арекипу, где меня ждал отец. Впрочем, любопытство завело меня еще дальше.
Поэтому, вместо того чтобы направиться прямиком в Арекипу, я оплатил проезд на торговом бриге «Орфей», шедшем в Лиму. Сойдя на берег в Кальяо,[66] я проделал какие-то жалкие девять миль до столицы страны, где меня очаровала местная мода на saya,[67] юбку настолько облегающую, что она не оставляла простора для воображения. A manto[68] вообще привела меня в восторг. Эту вуаль завязывали на талии, а потом накидывали на голову, так что из-под нее виднелся только один глаз. Еще никогда я не испытывал такого возбуждения. В Венеции наши «доступные» леди кутали свои прелести в nizioletto,[69] выполнявшую аналогичную функцию, но даже венецианки были не столь порочны, чтобы оставлять только один глаз.
Поначалу, столкнувшись с несметными полчищами этих одноглазых дам, которых можно было встретить повсюду, я пришел в неописуемый восторг и возбуждение, решив, что их специально изувечили подобным образом. Я даже заподозрил, что удаление одного глаза у женщины — особая профессия в Лиме, где нищета и высокая влажность поддерживали температуру в котле насилия на точке кипения. Признаться, я был несколько разочарован, при первой же возможности сорвав с лица одной девушки вуаль и обнаружив под ней второй глаз, круглый, как приморская галька, и яркий, как солнце. Разочарование оказалось настолько сильным, что девица, сама о том не ведая, всерьез рисковала и впрямь лишиться второго глаза. Но я вовремя удержал руку, потому как снаружи торчал ее сводник, малый, превосходивший меня размерами и силой чуть ли не вдвое.
Я часто прогуливался по Калле де ла Каскарилла, улице Хинной Коры, разглядывая устройство аптечных лавок и подмечая цены на кору хинного дерева, которой они славились. Я договорился о регулярных ее поставках за сумму, которую рассчитывал преумножить в тридцать раз, как только она появится на улицах Венеции, хотя десять процентов от прибыли мне придется отдать королю Испании, еще один процент — порту, и десятину — жадной Церкви, едва каждое судно пришвартуется в Кадисе.
Я развлекался от души, получая столько удовольствия и прибыли одновременно, и начисто позабыл о том, что мне поначалу полагалось сделать остановку в Ислее и уже оттуда отправиться в Арекипу, на встречу с отцом. Но, пока я забавлялся со своими одноглазыми красотками в Лиме, мне пришло от старика письмо, полное упреков. Мой отец наконец встряхнулся настолько, что проявил слабый интерес к семейному бизнесу, после чего обеспокоился, узнав, что я отошел от добычи и торговли серебром. Он потребовал от меня немедленно прекратить всю мою предполагаемую аптекарскую активность. Мне предписывалось незамедлительно прибыть в Арекипу и представить отчет о своих похождениях, а также перестать служить источником скандалов во всех портах, куда меня заносила судьба.
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](https://cdn.my-library.info/books/187346/187346.jpg)